
Декоммунизация: Учимся на чужих ошибках
Украине есть чему поучиться у центральноевропейских государств, которые 25 лет тому назад начали процесс декоммунизации и с тех пор смогли построить значительно более счастливое и справедливое общество.
На круглом столе «От диктатуры к свободе: механика изменений», который проведен в Киевском национальном университете имени Шевченко о том, как не забывать тоталитарное прошлое, но не быть его заложниками, говорили представители Германии, Польши, Чехии и Украины.
НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ
Гитлеровский режим два десятилетия господствовал во всей Германии, коммунистический – свыше сорока лет в восточной ее части. И если абсолютное большинство бывших нацистов уже отжили свое, то людей, которые помогали Советскому Союзу поддерживать в Восточной Германии лояльный режим, среди живых еще достаточно много.
Интересно, что именно в Восточной Германии, контролируемой советскими войсками, в восьмидесятые годы прошлого века начали возрождаться пронацистские настроения. По мнению исследователей, причина в том, что денацификация в НИР – в отличие от демократической Западной Германии – не прошла в полной мере и не была публичной.
Декоммунизация по-немецки – достаточно умеренная: Германия не ограничивала право бывших сотрудников спецслужб коммунистического режима быть избранными в парламент, хотя им не разрешено занимать должности в исполнительной власти. Левые политические силы выступают за то, чтобы даже данные о сотрудничестве кандидатов на выборные должности с коммунистическим режимом не разглашались, но эта идея не нашла общественной поддержки. Впрочем, не удалось полностью исключить из политической системы государства и Коммунистическую партию, которая до сих пор действует.
Свыше двадцати пяти лет тому назад немцы, как и мы теперь, побаивались конфликтов в обществе как возможных последствий декоммунизации. Поэтому, рассказывает уполномоченная федеральной земли Тюрингия по проработке материалов «Штази» (министерства госбезопасности Немецкой Демократической Республики) Гильдигунд НОЙБЕРТ, часто документы, доступ к которым был открыт, оказывались тщательным образом заретушированными. Но с недавних пор правила доступу к материалам «Штази» изменились: теперь научные работники могут знакомиться с документами, в которых не зачеркнуто никаких фамилий или названий, и в то же время должны заботиться о неразглашении персональных данных.
Особенностью декоммунизации и денацификации в Германии является полная независимость учреждений, которые отвечают за этот процесс: в должностных обязанностях руководителей отмечено, что они должны быть независимыми в своих действиях.
По словам госпожи Нойберт, очень важно, чтобы информация, которую раскрывает ответственное за декоммунизацию учреждение, была правдивой и проверенной.
ЧЕШСКИЙ ОПЫТ
«Когда в Чехии только создали декоммунизационные институции и архив, – рассказывает первый директор чешского Института исследований тоталитарного общества Павел ЖАЧЕК, – туда приходили целые группы бывших узников коммунистического режима и благодарили за то, что наконец могут чувствовать себя полноценными гражданами».
Чехи и словаки не запрещали коммунистическую партию, и она принимала участие в выборах 1991 года, через два года после бархатной революции. Лишь после августовского путча в Москве советские войска были окончательно выведены из Чехословакии. Возможно, советское присутствие не позволяло начать полноценный процесс прощания с коммунистическим прошлым. Первый чехословацкий люстрационный закон, принятый в октябре того года, был скорее эмоциональным; впоследствии стало понятно, что нужны правовые рамки для регуляции процесса декоммунизации. По данному закону, который с определенными дополнениями действует доныне, люди, которые работали в народной милиции, учились в партийных школах или школах Комитета государственной безопасности в Советском Союзе, работали в спецслужбах или сотрудничали с ними тайно, не могут баллотироваться на выборные должности и работать в ряду государственных органов и компаний.
Приняв закон о люстрации, чехословаки, однако, сначала не открыли архивы и не создали независимую институцию, которая контролировала бы доступ к материалам спецслужб коммунистического режима. Архивы в Чехии остались под контролем Министерства внутренних дел, а публикация данных о связи лица со спецслужбами запрещена. За непрозрачность закон был подданным критике со стороны европейских правозащитных организаций.
В 1990-х парламент Чешской Республики принял закон, по которому доступ к архивам спецслужб могли получить лишь чешские граждане. Чехи побаивались, что данные из архивов могут стать инструментом политической борьбы, а также дискутировали о том, могут ли люди, которые сотрудничали с коммунистическим режимом, исправиться и приобщиться к перестройке демократического государства.
В конечном итоге, в 2008 году была создана централизованная гражданская институция, которая администрирует бывшие архивы спецслужб и обеспечивает открытый доступ ко всем документам, которые в них содержатся. Теперь каждый гражданин может отдаленно посмотреть, есть ли в архиве нужные ему материалы, заказать и получить электронную копию.
Павел Жачек отмечает важность оцифровывания оригиналов всех документов, что ограждает от фальсификации и манипуляций с использованием архивных материалов. Определенным риском он называет зависимость чешской архивной институции от парламента, а следовательно, и от политической конъюнктуры.
ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ
Заместитель директора Люстрационного бюро польского Института национальной памяти Радослав ПЕТЕРМАН говорит, что в Польше люстрация до сих пор порождает огромное сопротивление, а декоммунизация не завершена.
Карают в Польше «не за сотрудничество, а за неправду – если в люстрационной декларации лицо скрыло факты сотрудничества с коммунистическим режимом».
Закон, который обязал должностные лица официально сознаваться в сотрудничестве с режимом, был принят в 1992 году. Пресса встретила его сокрушительной критикой, выражая сомнения как в достоверности информации, которая должна была быть опубликованной, так и в целесообразности ее предания огласке. В списке должностных лиц, связанных со спецслужбами коммунистической Польши, были первые лица государства, в частности президент Лех Валенса. Архивные документы стали использовать для политической борьбы и даже шантажа.
В конечном итоге, люстрацию отложили на несколько лет. Между тем решили создать Институт национальной памяти, который должен был заниматься не только рассекречиванием архивных материалов, но и историческими исследованиями, в частности, раскрытием преступлений коммунистического и нацистского режима. «Закон, который касался и люстрации, и института, был изменен в 2006 году. Тогда люстрацию и администрирование архивов соединили в пределах одного ведомства: было создано люстрационное бюро, в котором работают прокуроры, – рассказывает Петерман. – Был расширен перечень должностных лиц, которые должны подавать люстрационную декларацию. На то время мы обжаловали в суде шестьсот люстрационных деклараций. Половина из них оказались лживыми, поэтому их авторы были лишены права занимать государственные должности».
Польскому Институту национальной памяти придется выполнять архивную, образовательную, прокурорскую и люстрационную функции. Председателя института избирают по процедуре, которая обеспечивает его непредубежденность, а сотрудниками не могут быть люди, которые при коммунистическом режиме сотрудничали со спецслужбами. Радослав Петерман отмечает то, что для декоммунизации необходимо дать надлежащую оценку тоталитарному прошлому, наказать виновных в преступлениях, а также обеспечить моральное и материальное возмещение жертвам коммунистического режима.
УКРАИНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
По словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира ВЬЯТРОВИЧА, из-за того, что в Украине в 1990-х не было полноценной демократической революции, нам пришлось восставать в 2004-м и 2014-м.
«Причина тех жертв, которые Украина понесла в прошлом году во время событий Евромайдане и которые продолжает нести и теперь, – это следствие того, что процесс декоммунизации не был проведен должным образом в первые годы украинской независимости», – считает председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Лилия ГРИНЕВИЧ. Поэтому люстрационная очистка, которую Украина начинает сейчас, несколько отличается от того, что состоялось в Чехии, Польше и Германии: она началась позднее и будет длиться годы.
В Украине, по словам Вьятровича, основную часть работы по декоммунизации сначала взяла на себя интеллектуальная элита из бывших репрессированных, преимущественно пожилых людей с подорванным лагерями здоровьем. Власть, которая состояла из вчерашних коммунистов, пыталась оградиться от люстрации принятием фасадных законов, а запрещение Коммунистической партии оказалось временным и вскоре было отменено.
В сентябре 1991 года было принято решение передать архивы КГБ в государственные, однако этот процесс почти сразу приостановили; областным архивам успели передать лишь полтора миллиона дел репрессированных. В 1993 году был принят закон, который предоставлял статус ветерана Великой отечественной войны также воинам Украинской повстанческой армии, но лишь тем, кто боролся против гитлеровцев и сложил оружие по окончании войны, те же, кто отстаивал независимость в борьбе с коммунизмом оставались преступниками в понимании законодателя.
В 1996 году была создана Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, деятельность которой не принесла никаких видимых результатов. Также в начале 90-х была основана государственная программа «Реабилитированные историей», которая и на сегодня остается известной по большей части историкам. Украинский институт национальной памяти, созданный в 2006 году, начал заниматься вопросом Голодомора и советской топонимики. Создание центрального архива на базе института было запланировано, однако для этого не приняли никаких нормативных актов. Только в январе 2009 года появился Указ Президента «О рассекречивании, предании огласке и изучении архивных документов, связанных с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине». Однако с приходом к власти Виктора Януковича в 2010 году процесс декоммунизации остановился.
После Революции достоинства состоялись существенные сдвиги. Институту вернули статус центрального органа исполнительной власти. Приняли и люстрационный закон, которого, впрочем, не достаточно для решения проблем декоммунизации и который нуждается в уточнении и разъяснении во многих пунктах. Следовательно, Украинский институт национальной памяти разработал «декомунизационный пакет» законов, которые помогут наконец завершить процесс преодоления тоталитарного прошлого: Украина осудила коммунистический и нацистский режимы, поставив между ними знак равенства и открыла раньше тайные архивы для каждого. Законодатель также предоставил статус борцам за независимость Украины и ввел правовые основания для «ленинопада», который стартовал с Революции достоинства.
Однако, кроме законодательства, для этого необходима общенациональная консолидация и готовность слышать друг друга в дискуссиях.
Материал подготовлен по результатам круглого стола «От диктатуры к свободе: механика изменений», организованного Фондом Конрада Аденауера в Украине, Центром исследований освободительного движения, Украинским Институтом национальной памяти, Киевским национальным университетом им. Т. Шевченко.
Видеозапись круглого стола можно промотреть по ссылке: http://betv. com. ua/ivent/cdvr_31-03/
Источник: lb. ua
| Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |
| Просмотров : 6360 |











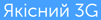



























Добавить комментарий: